Неформальное интервью с Народным артистом России, выдающимся пианистом, наставником и меценатом Юрием Александровичем Розумом.
Мы часто слышим, «талантливый человек талантлив во всем». Отважусь спросить: если бы не музыка, что-то другое могло увлечь Вас?
«Талантлив во всем» – это полная чушь: можно быть в двух каких-то направлениях талантливым, во всем – ерунда! Да, талантливый человек потенциально может многое, но в реальности – нет, так как достижение какого-либо уровня в любой области требует абсолютной концентрации. Ты можешь иметь какое-то хобби, набираться впечатлений, вдохновения, путешествовать, но должен на девяносто девять процентов принадлежать делу своему, если хочешь чего-то достичь.
Я очень люблю литературу и поэзию, при этом довольно спокоен в отношении живописи, скульптуры (не считая подлинных потрясений уровня роденовских «Вечной весны» или «Мыслителя»). В пятилетнем возрасте я подумывал стать писателем, даже роман начал писать. Героем был маленький плюшевый мишка, которого мне подарили, и он как-то сразу вошел в мое сердце и был в этом сочинении настоящим воином без страха и упрека, по крайней мере, две главы вышли вполне насыщенными. И я писал стихи, лет до семнадцати. Но музыка, конечно, отвлекла меня со временем от литературных занятий.
Музыка может увлечь так, что человек станет служить ей фанатично, а со стороны будет казаться просто ненормальным. И тут уже ни о чем другом, о каком-либо ином направлении говорить не приходится: они, эти музыкальные гении, просто-таки гонимые амоком! И для меня – только музыка.
Абсолютная концентрация для пианиста означает постоянные многочасовые занятия?
Да. А по природе я крайне ленив, и большего ненавистника труда, чем я, представить сложно. Не люблю трудиться, но понимаю, что без этого не получится играть, а еще меньше я люблю плохо играть, и поэтому надо из этих двух зол выбирать. Приходится наступать на свое лоботрясничество и вкалывать.
Поначалу мне это не удавалось. В Центральную музыкальную школу я был принят за способности, после подготовительного года – «нулевки» Гнесинской. Учитель сделала все, чтобы я возненавидел занятия. Я долбил под ее руководством четыре-пять пьесок, что казалось совершенно бессмысленным, лишало меня возможности проводить время с друзьями, гулять по улицам и дворам, как тогда было принято. А я уже собирал компании из разных дворов, придумывая одну за другой и рассказывая им страшные сказки, небольшие «фильмы ужасов» в рассказах, и всем ребятам это нравилось. И вот вместо этого приходилось выдерживать муштру той моей «предпервой» учительницы, которая совершенно не умела меня заинтересовать, хотя бы объяснить, зачем мне эти этюдик, инвенция, буре… И я уже заявил родителям, что ни в коем случае не стану заниматься музыкой, но тут произошла поворотная встреча с моим первым настоящим педагогом – легендарной Анной Даниловной Артоболевской.

Я мгновенно влюбляюсь в нее, получаю целую кипу нот: десяток двух- и трехголосных инвенций, концерт Гайдна, пачку этюдов Черни, Беренса… Я будто сидел в темноте, а тут открылось окно, а там – свет, там солнце, природа, и это все – музыка. И тогда мне захотелось играть, я поступил в ее класс, прежде всего, за абсолютный слух. Лень никуда не делась, и радость я находил в том, чтобы играть, но не в том, чтобы работать. И только ближе к восьмому классу, когда стало что-то еще и получаться, я стал чувствовать эту связь: позанимался – что-то получилось, а не позанимался – нет, не получилось.
Это в какой-то момент стало откровением?
Я вдруг почувствовал свои руки, их самостоятельную жизнь, будто у тебя есть какой-то орган, от тебя не совсем зависящий, но который делает, что ты хочешь, если ты трудишься, имея способности. И это ощущение уходит, если не подходишь к роялю несколько дней.
К этому времени, с девятого класса и потом в Консерватории моим педагогом был Евгений Васильевич Малинин, и он окончательно перекрыл мне весь «дворовый» кислород. И тут я ощутил разницу: занимался два часа или шесть. Пришли интерес и радость от достижения исполнительских задач. Когда ты знаешь, что ты хочешь и ищешь это, тебя влечет к инструменту. В итоге экзамен в Консерваторию был очень успешным: я был отобран первым номером, и начались годы интенсивных занятий в ней.
Пришел интерес к работе, возникло радостное чувство, что что-то получается. И тут я решительно погрузил себя в буквально монашеское расписание: йога серьезно увлекла меня, на два года я стал аскетом, а в итоге систематических занятий просто-таки гуттаперчевым мальчиком: стойки, позы, асаны. Но при этом существенно потерял в музыке. На втором курсе Малинин вдруг сказал, что меня было интереснее слушать при поступлении, чем сейчас. Я был как озеро, на котором, после всех штормов, цунами даже, бывала теперь лишь иногда легкая рябь. Зеркало. Для музыки ты в таком состоянии – ноль. И я переставал чувствовать мелодию, возникала полная бесстрастность.
И тогда я смог проанализировать свое состояние, вспомнить, для чего именно мне это казалось нужным. Я рассчитывал, что мою музыку йога на какие-то новые вершины выведет, а этого не произошло. Вершины оказались снизу, я ушел на дно. И тогда решительно вернулся к нормальной жизни русского человека, не индуса. И еще года два возвращал исполнительскую форму.

Многие отмечают Вашу невероятную работоспособность и удивительный график жизни, когда на следующий день и после перелетов, и после вечерних или даже ночных концертов, Вы бодры и энергичны, в чем секрет?
Занятия йогой я не бросил, и она помогает мне держать неплохую физическую форму все эти десятки лет. Спать действительно иногда приходится совсем мало, тогда весь день проходит «на кофе». Если же есть возможность выспаться, она мной используется. Спросонья могу что-нибудь сказать, а потом… заснуть опять. Вот так бывало: звонят рано утром из областной филармонии (а я практически только заснул, и совсем не расположен говорить на серьезные концертные темы), говорят: надо усилить группу, поехать, выступить, автобус от филармонии поедет в четыре часа. Я соглашаюсь и… засыпаю спокойным сном. Потом спокойно просыпаюсь, думаю, как хорошо, сегодня ничего нет… В начале пятого звонок: Ты где? – Дома – Как дома?! – А где вы хотите, чтоб я был? – Как, где? В филармонии! Артисты все в автобусе сидят, ждут… Своим ходом, на такси, конечно, выезжал, успевал в итоге.
Вам приходилось сочинять музыку?
Да, это было и частью учебного процесса. В Консерватории и даже раньше – в ЦМШ мы были увлечены сочинением фуг, в том числе и шутливых, – у нас был довольно сильный и требовательный педагог по теории. Позже мне захотелось создать полноценное симфоническое полотно, объединяющее разные темы, вбирающее сразу и народную, и классическую, и популярную музыку, поочередно, а в развитии – вместе, и чтобы это было не какофонией, а гармонично, – интересная задача.
Кстати, если вернуться к первому вопросу: в любом случае ничего, кроме музыки, быть у меня не могло, и не будь я исполнителем, стал бы композитором, да.
Блестяще завершив обучение в Консерватории, Вы идете рядовым в советскую армию…
Я пошел служить вместо поступления в аспирантуру после того, как мне было отказано в выезде на международный конкурс в Брюссель. И тогда были завистники, но и принято было давать ход анонимным заявлениям о неблагонадежности, проще говоря, – доносам. Громкие случаи, когда артисты или музыканты, выехав из Советского Союза по творческим делам, принимали решение не возвращаться, вызывали большой резонанс. И проще было не выпускать вообще, используя такие вот «письма доброжелателей», чем получать потом «по шапке» за недосмотр.
В анонимке обо мне значилось, что я человек ненадежный, верю в Бога, посещаю Троице-Сергиеву Лавру… Эта невозможность выступить на большом международном событии, при полном отсутствии у меня каких-то мыслей о невозвращении в родную страну, стала большим испытанием.

Служил я в военном оркестре, и благодарен армии за то, что в дальнейшем именно ее ручательство позволило мне, вопреки козням недругов, выезжать из страны и принимать участие в международных конкурсах. Подчеркну, не Консерватория поручилась за меня, а советская армия. Я получил диплом III степени международного конкурса королевы Софии в Мадриде (играл, как мог после значительного простоя), а вместе с ним и право участвовать в больших концертах: по регламенту и Госконцерта СССР и Союзконцерта лауреаты международных конкурсов пользовались рядом существенных привилегий. В то время я работал и аккомпаниатором в ансамбле «Россия» Людмилы Зыкиной.
Следующий конкурс, к которому я уже вернул себе исполнительскую форму, был в Барселоне, и тут, кроме главной премии, я собрал урожай и специальных призов, выступление было триумфальным. Посыпались приглашения на зарубежные гастроли, международные фестивали. Но меня вновь перестали выпускать из страны, точнее, я мог ездить только в страны социалистического лагеря.
В аспирантуре моим наставником стал Лев Николаевич Наумов. (Малинин за меня не держался, так как ему ясно дали понять, что на большие конкурсы меня выпускать не будут, кроме того, он уже был нацелен на набор, так сказать, административного веса. Он заведовал кафедрой, был деканом, спустя некоторое время получил звание Народного артиста СССР). Именно Лев Наумов стал настоящим моим наставником.
Ваши педагоги, маститые, уникальные, передали Вам какие-то особенные секреты наставничества. Какой Вы педагог?
Я не педагог, совершенно… Мои педагоги: Наумов, Артоболевская, – они даже не пытались совмещать преподавание и исполнение, при том, что оба были выдающимися пианистами. Они пожертвовали исполнительской карьерой. И они, отдаваясь преподаванию целиком, могли выстраивать для каждого ученика картину роста: какие произведения в какое время ему давать или не давать, над чем особенно работать, – и этим только они и жили. Они наполняли смыслом формальные методические указания, принятые в музыкальных школах и ВУЗах, и жили жизнью своих учеников.
Анна Даниловна дружила с большим числом современных тем дням композиторов, среди них были и гении: Шостакович, Хачатурян, Кабалевский. Но она могла заставить нас играть, например, произведения казахских или таджикских композиторов. Это было в определенной степени источником развития для нас, но я старался избегать такого, предпочитая проверенную веками классику.

Довольно четкий план был и у Малинина, но он был прежде всего именно исполнителем, очень ярким, и в силу этого все ученики играли произведения его репертуара. Лев Николаевич, мой любимый, меня никак не ограничивал. То, что сыграть методически было именно надо, составляло не более десятой части того, над чем мы работали. Сейчас и мечтать о том, что твой ученик будет играть в разы больше того, что положено – нет, не приходится. Они перегружены: и преподают, и аккомпанируют, и где-то еще подрабатывают, плюс загружены и по другим предметам. И я не могу, конечно, с учетом собственного графика заниматься ими в полной мере. Я поэтому, я не преподаю, я скорее делюсь своим опытом, указываю на те недочеты, которые есть в их игре, могу показать им, что и как у них звучит, и предположить, что они хотели бы, чтобы звучало, но этого не происходит. У молодых музыкантов, как правило, то, что делают руки, и то, что звучит внутри – это разные вещи. Ему кажется, что он так играет, а так он не играет. Кажется, что замедляет, а нет. Задача учебного процесса – научить слышать себя. Мои уроки – это мастер-класс, скорее.
Магия исполнения от мастера ученику не передается?
Нет, не передается. Я делаю все возможное на физическом уровне: прикосновение, динамика, темп, баланс, педализация. Лев Николаевич Наумов говорил, что, в конечном итоге, научить хорошо играть невозможно.
А сказал ли он Вам, что да, вот Вы достигли вершины, был такой важный, сокровенный момент?
Да, сказал мне спустя несколько лет после окончания аспирантуры Консерватории: «Вот теперь я вижу, ты все знаешь, и я тебе, в принципе, уже не нужен».
Что Вы ощутили в тот момент?
Не поверил. И сейчас не верю, Мне и сегодня его не хватает. Иногда я как бы для него играю – что бы он сказал мне сейчас? – и мне многое становится ясно.
Фотографии из личного архива Ю.А. Розума
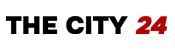
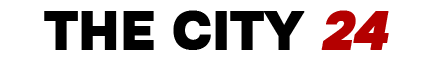









1 Комментарий